- Услуги
- Цена и срок
- О компании
- Контакты
- Способы оплаты
- Гарантии
- Отзывы
- Вакансии
- Блог
- Справочник
- Заказать консультацию
Заказать консультацию
Процессуальное положение прокурора в суде
Эффективность участия прокурора в рассмотрении уголовных дел судами в существенной мере зависит от правильного определения процессуального положения прокурора в суде. Вопрос этот имеет не только теоретическое, но и большое практическое значение. Когда в мае 1922 г. создавалась прокуратура как государственный орган по надзору за точным и единообразным соблюдением законности, эта функция прокуратуры прямо увязывалась с поддержанием государственного обвинения в суде.
Генеральный прокурор Российской Федерации рассматривает государственное обвинение, поддерживаемое прокурорами в суде, не только как одно из действенных средств борьбы с преступностью, но и как одно из направлений осуществления надзора за соблюдением законов.
Интересно
Прокурор осуществляет надзор не только когда суд уже постановил по делу приговор или вынес определение или постановление, но и до принятия по делу приговора или иных решений. Если суд не разъяснил подсудимому его прав в судебном разбирательстве и продолжает рассмотрение дела по существу, прокурор обязан немедленно реагировать на это нарушение закона путем заявлений ходатайства, хотя в связи с подобными нарушениями суд не выносит специального определения, а поэтому нет предмета для опротестования. Прокурор не вправе бездействовать до вынесения по делу незаконного приговора в связи с этими нарушениями, чтобы затем принести протест для отмены незаконного приговора.
Уголовно-процессуальный закон не предоставляет прокурору никаких преимуществ перед другими участниками судебного разбирательства по представлению доказательств, участию в их исследовании, заявлению ходатайства (ст. 245 УПК). В то же время закон ставит прокурора в процессуальное положение, отличное от процессуального положения иных участников судебного разбирательства. Это не привилегия прокурора, а создание необходимых условий для успешного осуществления им возложенных на него функций.
Подсудимый, потерпевший, выступая от своего имени, а защитник – по поручению подсудимого могут реагировать на нарушения закона, допущенные в судебном заседании, но могут и не делать этого. Закон не обязывает их к этому. Прокурор же, выступая от имени государства, не только вправе, но и обязан принять меры к устранению нарушений закона независимо от того, кем они допущены.
Речь идет в одинаковой мере о составе судей, защитнике, подсудимом, потерпевшем, гражданском истце или гражданском ответчике. Своим участием в судебном разбирательстве прокурор способствует устранению нарушений прав и законных интересов потерпевшего, гражданского истца и ответчика, обвиняемого и других участников процесса.
Прокуроры, выступая как государственные обвинители, не ограничиваются уголовным преследованием. Как представители органа надзора за исполнением законов они являются гарантом соблюдения прав и законных интересов всех лиц, вовлеченных в сферу судопроизводства. Поэтому Генеральный прокурор высказывает предложения практического характера относительно форм надзора и средств реагирования на нарушения закона в различных стадиях рассмотрения судами уголовных дел: в первой, кассационной и надзорной инстанциях.
Интересно
Прокурор осуществляет надзор за соблюдением законов не только во время участия в судебном разбирательстве, но и тогда, когда он, не участвуя при рассмотрении дела судом, проверяет законность и обоснованность приговоров, постановлений и определений, не вступивших в законную силу. Если нарушение закона, по поводу которого прокурор заявлял ходатайство или реагировал иным образом в процессе судебного разбирательства, не было устранено, прокурор обязан принести протест на вынесенный в связи с этим незаконный или необоснованный приговор.
Процессуальное положение прокурора как гаранта законности остается неизменным в любой стадии уголовного процесса. При поддержании государственного обвинения в суде первой инстанции, при даче заключения в апелляционной, кассационной или надзорной инстанции прокурор остается представителем органа, осуществляющего надзор за исполнением законов. При этом, разумеется, изменяются формы надзора и средства прокурорского реагирования на обнаруженные нарушения закона.
Статья 25 УПК предусматривает обязанность прокурора во всех стадиях уголовного судопроизводства принимать меры к устранению всяких нарушений закона, от кого бы они ни исходили. Свои полномочия в уголовном судопроизводстве прокурор осуществляет независимо от каких бы то ни было органов и должностных лиц, подчиняясь закону и руководствуясь указаниями Генерального прокурора Российской Федерации.
Указанное требование уголовно-процессуального закона применимо в одинаковой мере к выступлениям прокурора в суде первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанций. Однако в апелляционной или кассационной инстанциях прокурор не выступает в роли обвинителя, он осуществляет надзор за соблюдением законов при рассмотрении дела этими инстанциями присущими ему в данных стадиях процессуальными средствами.
Интересно
Выполняя в апелляционной или кассационной инстанции обязанности представителя органа надзора за исполнением законов, прокурор не только отстаивает обвинительный приговор или поддерживает протест на него, но и вносит предложение о прекращении дела производством по основаниям, указанным в законе (считая, таким образом, обвинительный приговор необоснованным); о смягчении назначенного судом первой инстанции наказания (считая приговор чрезмерно суровым); о применении закона, предусматривающего более мягкое уголовное наказание (выступая против применения закона о более строгом наказании) и т. д. Перечисленные действия никак не укладываются в понятие о прокуроре как об обвинителе и только обвинителе.
Особенность процессуального положения прокурора в апелляционной или кассационной инстанции обусловлена прежде всего тем, что здесь речь идет о законности и обоснованности уже постановленного судом приговора. Другая особенность состоит в том, что осуществление надзора в этой стадии обычно переходит к прокурорам вышестоящих прокуратур, то есть к прокурорам, которые ранее не участвовали в рассмотрении дела в суде первой инстанции. Это одно из условий, обеспечивающих объективность и процессуальную независимость этих прокуроров.
Поддерживая кассационный или частный протест и давая заключение в кассационной инстанции по жалобе осужденного или защитника, прокурор осуществляет надзор за законностью рассмотрения уголовного дела кассационной инстанцией. Выступающий в кассационной инстанции прокурор не является представителем государственного обвинения.
Он уполномочен прокурором субъекта РФ или Генеральным прокурором РФ проверить дело и дать свое самостоятельное заключение, причем характер заключения не зависит от того, по чьей инициативе рассматривается дело в кассационной инстанции. В частности, прокурор может поставить вопрос об отклонении кассационного протеста, принесенного на оправдательный приговор, если считает, что протест принесен необоснованно и приговор соответствует материалам дела.
Уголовно-процессуальный закон возлагает на прокурора проверку дела в полном объеме, в отношении всех осужденных, независимо от того, подана ли ими жалоба и принесен ли в отношении них кассационный протест. Кроме того, при рассмотрении дела в апелляционном или кассационном порядке прокурор не просто высказывает свое мнение по апелляционной или кассационной жалобе, но и дает заключение о законности и обоснованности приговора (ст. 338, 491 УПК).
При этом прокурор может не согласиться с кассационной жалобой осужденного или защитника, может внести предложение, не совпадающее с мнением государственного обвинителя. Выступая в кассационной инстанции, прокурор обладает всей полнотой процессуальной самостоятельности, процессуально независим от прокурора, уполномочившего его на участие в кассационной инстанции.
Вышестоящий прокурор не только не вправе дать указание подчиненному прокурору о поддержании обвинения вопреки его внутреннему убеждению, но и не может обязать прокурора, участвующего в кассационном разбирательстве уголовного дела, дать заключение, с которым он не согласен. Генеральный прокурор Российской Федерации, строго сохраняя принцип централизации органов прокуратуры, в то же время своими приказами и инструкциями всемерно укрепляет процессуальную самостоятельность прокурора, осуществляющего надзор за соблюдением законности при рассмотрении судами уголовных дел.
Статьи по теме
- Приказ о порядке рассмотрения жалоб граждан
- Приказ о задачах прокуроров
- Прокурорам по надзору за соблюдением законов в ИТУ
- Прокурорам войсковых частей
- Транспортным прокурорам
- Военным прокурорам
- Контроль исполнения в органах прокуратуры
- Планирование работы в органах прокуратуры
- Стиль и методы руководства и управления в органах прокуратуры
Полезные статьи


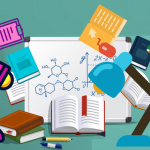






Узнайте цену услуг:
Узнай цену консультации
"Да забей ты на эти
дипломы и экзамены!”
(дворник Кузьмич)

